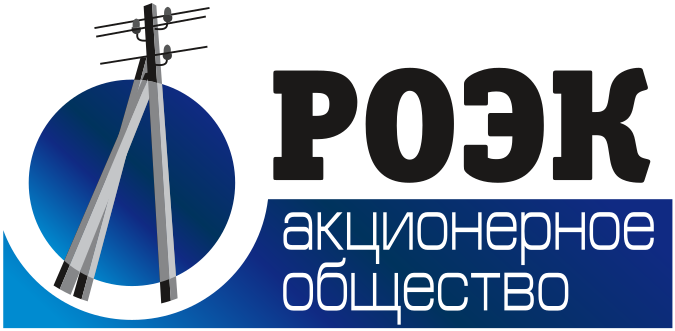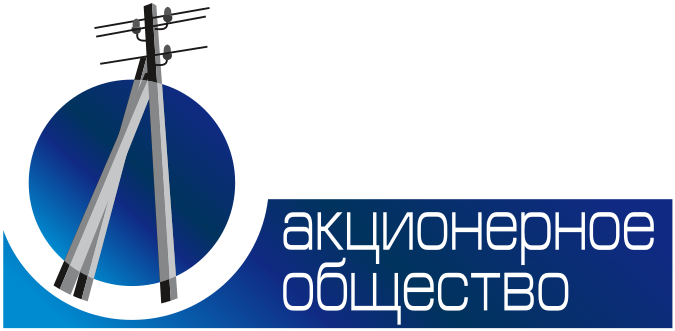Правда и вымысел о немцах под Рязанью
Статья «Правда и вымысел о немцах под Рязанью»
(автор: заместитель генерального директора АО "РОЭК" Шибаев Денис Владимирович)
Официальная часть истории (хроника событий)
Согласно статьям Владимира Фролова «70 лет назад: немцы под Рязанью» от 04.12.2011 года и «70 лет назад: наступление под Рязанью» от 05.12.2011 года, опубликованных в разделе Блогосфера на сайте информационного агентства «МедиаРязань» следует, что во второй половине ноября 1941 года Гитлер окончательно понял, что перезимовать в Москве его войскам не удастся, и решил больше не прорываться к Москве напрямую, а блокировать ее, окружив двойным кольцом. Шлюзы канала Москва-Волга должны были быть взорваны, Москва затоплена. При этом никто не должен был выйти из окружения. Москве угрожала блокада, еще более суровая, чем ленинградская. Для этого немецким командованием были предусмотрены, так называемые двойные «малые и большие клещи». «Большие клещи» южнее Москвы должны были проходить через подступы к Туле на Рязань. Севернее Москвы «большие клещи» проходили через г. Калинин. Соединиться они должны были в районе Коломны.
В начале 20-х чисел ноября 1941 года немецкие войска начали активно пробиваться в обход Тулы в направлении г. Михайлов и г. Скопин, с дальнейшей целью – выйти на Рязань, которая являлась важнейшим узлом жизнеобеспечения Красной армии, сдерживающей немцев у самой Москвы. Участок фронта на этом направлении защищала 50 Армия, которая под ударом немецких войск с 23.11.1941 года стала быстро отступать по направлению от Тулы на Скопин. Уже 24 ноября 1941 года немецкими войсками был занят г. Михайлов и аэродром в 2 км северо-восточнее г. Михайлов. В итоге фашистские войска, вступив на территорию Рязанской области, заняли Скопин, Михайлов, Милославское, много других сел и поселков. Перед их приходом советская власть уничтожала все, что невозможно было эвакуировать, чтобы оно не досталось немцам. В Рязани жители до последнего дня не знали, войдет враг в город или нет. Войск для защиты почти не было: рабочий полк добровольцев, немногочисленные курсанты из Владимира, автомобилисты, саперы, девушки из зенитного дивизиона и рязанская милиция. С целью защиты этого важного района, в дополнение к войскам 50 Армии была создана группа обороны Рязани, под командованием заместителя начальника Главного Бронетанкового управления Красной Армии Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Мишулина, начальником штаба группы был назначен полковник Девятов, начальником оперотдела штаба – майор Носс. Располагался штаб обороны г. Рязани в обкоме партии.
Только 26 ноября на железнодорожную станцию Шилово прибыл командир 10 армии, недавно сформированной под Пензой, генерал-лейтенант Филипп Иванович Голиков (на фото). А 1 декабря стрелковые и кавалерийские дивизии его армии начали выгружаться из эшелонов в Рязани и окрестностях.
Рязанская газета "Сталинское знамя" практически никаких местных сводок не публиковала. Но люди видели, как много идет по городу солдат и лошадей. Еще в октябре население Рязани, чтобы купить на базаре страшно подорожавшее продовольствие, начало в массовом порядке продавать одежду, часы, золотые и серебряные вещи. На предприятиях выдавали карточки на получение 800 граммов хлеба в день. Те, кто не работал, получал карточки на 400 граммов хлеба. Были еще “сахарные” карточки, по которым выдавали пряники или карамель. Очень редко отоваривались “рыбные” карточки. Овощи и мясо можно было купить только на рынке, в магазинах их практически не было.
Весь ноябрь Рязань бомбили. Немецкие самолеты старались повредить железнодорожные пути, попасть в вокзал, в работавший на авиацию деревообрабатывающий (сегодня приборный) завод, в "Рязсельмаш" (там делали снаряды). Небо города прикрывал 269-й зенитный дивизион, почти полностью состоящий из девушек (кстати, на валу Рязанского кремля располагался один их пунктов противовоздушной обороны города, а у его подножья находилась артиллерийская школа, проработавшая там почти до мая 1945 года). Самая мощная бомбежка была 6 ноября. Первые бомбы взорвались на станции “Рязань-1”, повредив деревянное здание вокзала и рельсы (несмотря на темное время суток, повреждение рельсов устранили за один час, а вокзал отремонтировали только весной 1942 года). Две бомбы попали в привокзальный рынок на Малом шоссе, на котором в это время, к счастью, не было людей. Прогремел взрыв в детском саду на улице профессора Кудрявцева, где погибло много детей. Одна бомба угодила в госпиталь на улице Каляева (сейчас железнодорожный техникум). Сброшенный с самолета фугас взорвался во дворе управления НКВД: там осколками убило двух лошадей, получили ранения несколько сотрудников. Кроме того, от бомб пострадал бывший дом Салтыкова-Щедрина. 7 ноября в Рязани не было никакой демонстрации в честь годовщины революции: власти не стали рисковать, да и людям, занятыми похоронами погибших накануне, было не до празднования.
С 8 ноября в Рязани был введен комендантский час – с 22 до 7 часов. Любое передвижение в это время разрешалось только по пропускам коменданта города. В черте Рязани и у ближайших ее пригородов были построены линии земляных и бетонных укреплений (Некоторые бетонные колпаки пулемётных точек якобы до сих пор сохранились и даже сейчас хорошо видны по дороге от автовокзала до ж\д вокзала Рязани). В газетах утверждалось, что немцы понесли такие страшные потери, что не смогут уже ничего сделать с СССР. Назывались неправдоподобные цифры вражеских потерь, которым трудно было верить.
Ударили морозы. 14 ноября было минус 22 градуса. Несмотря ни на что, наступление врага на восток продолжалось. “10-я мотодивизия 47-го танкового корпуса, – вспоминал немецкий генерал Гудериан, – достигнув 27 ноября города Михайлов, отправила группы подрывников для взрыва железной дороги на участке Рязань-Коломна. Однако эти группы не смогли выполнить своей задачи: оборона русских была слишком сильна. 29 ноября превосходящие силы противника впервые оказали сильное давление на 10-ю мотодивизию. Поэтому наши войска вынуждены были оставить Скопин…”
На самом деле никакой "обороны русских" не было. Железную дорогу защитили истребительные отряды из жителей Рыбного, Луховиц и т.п. Вооруженные чем попало (охотничьими ружьями, карабинами XIX века, пистолетами), они отлавливали или убивали диверсантов, не подпуская их к рельсам. Начальник михайловской конторы Госбанка СССР по фамилии Гаврилин, не успев эвакуироваться на машине или телеге, собрал все деньги и ценности в два мешка, взвалил их на плечи и вышел из города пешком вечером 24 ноября. 60 километров до Рязани он шел пять дней, ночуя в попутных селах. В Рязань Гаврилин пришел 29 ноября, неся целые и невредимые мешки. Однако через некоторое время его взяли под стражу, а потом осудили на 10 лет лагерей “за допущенные денежные потери”: по сравнению с документами сколько-то бумажек в принесенных мешках не хватало. 25 ноября немцы впервые выслали разведку в сторону Рязани. Около станции Стенькино милиционеры увидели двух немецких мотоциклистов. Одного убили, а второй при попытке развернуться перевернул мотоцикл. Его взяли в плен. Другой разведывательный отряд немцев на мотоциклах, посланный в Захаровский район, приехал в село Попадьино. Навстречу им ехала машина начальника Захаровского отделения милиции Андриана Усачева. Он вез милиционера и женщину-врача. Немцы убили всех троих и расстреляли машину.
В селе Плахино немецкие мотоциклисты сорвали красный флаг с сельсовета и сделали несколько выстрелов в воздух, а потом уехали назад. В Захарове в это время жила старая набожная женщина – “убогая Полюшка” (почитаемая сегодня многими верующими). Она предсказала, что в Захарово немцы не войдут, и многие местные жители, уверенные в ее словах, не стали эвакуироваться. Немецкая танкетка в селе все-таки появилась, но оказалось, что это всего лишь разведка. Старушки рассказывали, что за пару часов фашисты лишь убили советского работника, пытавшегося метнуть в них из-за угла бутылку с бензином.
26 ноября начальник гарнизона Рязани Мурат и комендант города Самохин объявили осадное положение. На случай вторжения противника всем рабочим батальонам, милиции и прочим службам было выдано предписание. В нем подробно рассказывалось, где прятаться в лесах, чтобы начать партизанскую борьбу. В эти же дни по льду Оки в сторону Солотчи выехали десятки автомобилей. В Шумаши с них перегружали на сани и развозили по лесным уголкам секретные грузы. Создавались тайные склады оружия и боеприпасов, запасы продовольствия, теплых вещей для партизан. Между тем при оборудовании возможных партизанских баз было обнаружено немало скрывающихся в Мещере дезертиров. К 1 декабря НКВД составило по области списки 11 "бандитских групп" ориентировочной численностью 62 человека. Чекисты серьезно опасались, что эти "враги советской власти" могут перейти на сторону немцев (ловля дезертиров началась гораздо позже, в марте 1942-го).
27 ноября на станцию Ряжск прибыла бригада морской пехоты, которая должна была держать здесь оборону. Из Скопина им позвонила телефонистка из узла правительственной связи, замаскированного в обычном доме. Она рассказала, что гитлеровцев в городе всего около 70 человек. Разведка подтвердила эти данные. Морские пехотинцы пешком выступили из Ряжска и ворвались 28 ноября в Скопин. Морякам помогли бойцы Скопинского истребительного батальона, ушедшие из родного города считанные дни назад. После двухчасового боя враги, отстреливаясь, побежали вдоль дороги на Павелец.
Впрочем, для немцев рязанское направление тоже не было главным. Они наступали на Тулу и Москву, а здесь был лишь фланг армии Гудериана. В Серебряных Прудах и Михайлове находилось по несколько сотен немцев, в Павелеце и Чернаве – еще меньше. Между этими населенными пунктами ездили мотоциклисты и единичные бронетранспортеры. У немцев было тут немного артиллерии, но все танки сражались под Тулой.
Советских войск против них готовилось наступать намного больше – десятки тысяч человек. Но вооружены они были хуже. Филипп Голиков, чьи солдаты выгружались в Рязани и разворачивались от Пояркова до Пронска, 1 декабря направил донесение в ставку Верховного главнокомандования об ужасном состоянии частей его армии: “326-я стрелковая, 57-я и 75-я кавалерийские дивизии, – писал он, – вообще не имеют вооружения, остальные должны вступить в бой, не имея пулеметов, минометов, автомашин, средств связи…” На всю армию приходилась только одна рота связи, а отношения между штабами дивизий и штабом армии поддерживалась всадниками, скакавшими от села к селу. И все-таки 5 декабря была получена письменная директива Военного совета Западного фронта о том, что 10-й армии советских войск 06.11.1941 года предстоит начать наступление на немецкого захватчика.
После долгой обороны 6 декабря 1941 года советские войска юго-восточнее Москвы перешли в наступление. В зоне действия 10-й армии, которой командовал Филипп Голиков, у наших был большой численный перевес (почти 100 тысяч человек против 17-20 тысяч, развернутых в эту сторону у немцев), но было мало артиллерии, почти не было самолетов, танков был только один неполный батальон.
"Читатель поймет мои огорчения тех дней, – писал Голиков в мемуарах. – Войскам армии предстоит идти в бой против танковой армии Гудериана, а средств-то усиления по существу нет!"
В течение 2-4 декабря части Голикова выдвинулись к Пронску и Захарову. 6 декабря наступление на Михайлов началось от села Поярково, с пригорка, на котором теперь стоит монумент – вырастающий из земли штык.
Чтобы снизить потери от немецкого огня, решили наступать ночью. Однако ночью без освещения (небо пасмурное, луны нет, а электричество тогда в селах было отрублено при причине военного времени) довольно просто сбиться с пути. В результате еще днем саперы заготовили по пригоркам материал для костров, а ночью их зажгли. Костры, расположенные друг от друга за 300-500 метров, создавали светящиеся линии, по которым ориентировалась идущая по сугробам пехота. Эти огни могли бы заметить немецкие летчики, но метель сделала погоду нелетной.
Первой на Михайлов двинулась 25-я кавалерийская дивизия из района Пронска. Войска шли в ночной темноте длинными колоннами через село Малинищи, при полном отсутствии всяких дорог.
Генерал Голиков вспоминал:
“Поднявшаяся с утра метель скрыла походные колонны и от наземного, и от воздушного противника. Однако с выходом 330-й дивизии на заданный рубеж оборвалась связь командира дивизии полковника Г.Д. Соколова со штабом армии. Не было связи и с 328-й дивизией, вместе с которой предстояло брать Михайлов. Что делать? Ожидать ли подхода соседа, или атаковать только силами своей дивизии? За последнее говорил ряд причин. Во-первых, 330-я к 21 часу подошла к Михайлову почти вплотную и, как показывали пленные, гитлеровцы не ждали никакого серьезного наступления советских войск. Держать дивизию здесь до утра на морозе, не использовав темноту для сближения с противником и атаки, было равносильно преступному бездействию. Во-вторых, в атаке города можно было рассчитывать на внезапность... За два часа до атаки части подразделения были приведены в порядок, развернуты и расставлены по направлениям. Выработаны условные сигналы. Всем выдали горячую пищу. Тем временем саперы выдвинулись вперед и сняли около 300 мин. Не все офицеры сразу поняли смелый замысел комдива. Командир артиллерийского полка просил дождаться утра, чтобы зряче провести артподготовку наступления. Но Соколов с целью сохранить фактор внезапности артподготовку решил не проводить. Для лучшего взаимодействия артиллерийские дивизионы на время боя были переданы стрелковым полкам.
Ровно в полночь артиллерия открыла огонь, одновременно пошла вперед пехота. Выраженное боевое охранение было смято. Но тут загорелись скирды хлеба на окраинах города, враг применил свой излюбленный прием в ночном бою. Бойцы 1111-го стрелкового полка были вынуждены залечь на освещенной снежной равнине и продолжили движение ползком, короткими перебежками после залпов артиллерии. Плотную огневую завесу встретил и 1113-й стрелковый полк. Он тоже залег. Атака вот-вот могла захлебнуться. И тогда во весь рост поднялся командир полка майор А.П. Воеводин. Он личным примером поднял бойцов в атаку. Уже в городе настигла майора вражеская пуля, но командование на себя принял командир роты автоматчиков лейтенант Акимов. К 2 часам утра части дивизии овладели окраинами Михайлова, бой стал перемещаться к центру города. Теперь бросился в атаку с севера и 1111-й стрелковый полк. Артиллеристы шрапнелью расчищали путь пехоте. Быстро подавили огневые точки врага, расположенные в монастыре. Теперь освещенная пожаром местность играла на руку наступающим. У противника началась паника. Фашисты бросились к машинам, чтобы скорее покинуть город. Но на мосту через речку Проня образовалась пробка, и подоспей вовремя 328-я дивизия, а еще лучше – 51-й танковый батальон, который, к сожалению, ночью увяз в снежной целине, ночной бой для гитлеровцев мог закончиться полной катастрофой..."
7 декабря 1941 года город Михайлов был полностью освобождён Советскими войсками от немецкого захватчика. Советских солдат и офицеров при освобождении Михайлова было убито 72 человека, ранено 134. Потери немцев Голиков оценивал в 500 человек, но по немецким данным, около тысячи солдат потеряла в тот день вся армия Гудериана, а ведь еще шли масштабные бои под Каширой и Тулой. Зато трофеи были тщательно посчитаны. Вермахт бросил, отступая, 136 грузовых и 20 легковых автомашин, 99 (в донесении написали 100) мотоциклов, 25 броневиков, 5 тракторов (использовавшихся как тягачи), 29 орудий, 25 пулеметов, 3 вагона боеприпасов на железнодорожной станции Михайлов.
Немцы, ощутив удар не только под Михайловым, но и под Каширой (где наступала конница генерала Белова), а 7 декабря ещё и к северу от Москвы, начали отступать.
Генерал Гудериан, командовавший германскими дивизиями на тульском и рязанском направлениях, еще надеялся выстоять. 9 декабря он отдал приказ: “Мои боевые товарищи! Чем сильнее угрожают вам войска противника и зимние морозы, тем крепче вы должны сплотить свои ряды. Сохраняйте по-прежнему железную дисциплину. Каждый должен оставаться в своем подразделении, и каждому надлежит как можно лучше использовать свои машины и оружие, обеспечивая тщательный уход за ними. В единстве нашей воли и наших действий кроется залог успеха”.
Но советские войска продолжали наступать. 8 и 9 декабря немцев выбили со станции Павелец и из села Чернава – тогда это был районный центр.
9 декабря завязался бой у села Гремячего – в тех местах, где сейчас проходит граница Тульской и Рязанской областей. На берегах реки Прони немцы успели создать оборону из вырытых в мерзлой земле пулеметных гнезд. Здесь защищался немецкий моторизованный полк и два артиллерийских полка. С высокого берега противник простреливал открытую долину.
Утром 328-я стрелковая дивизия пошла было в атаку, но вскоре понесла большие потери, а реку так и не пересекла. На снегу лежали сотни убитых в маскировочных халатах и без них (белого полотна хватило не на всех). Пользуясь численным перевесом, наши выслали целый полк в обход села с юга. К Гремячему подтянули два дивизиона единственного в 10-й армии артполка и стали разбивать немецкую береговую оборону. Второй дивизион под командованием старшего лейтенанта Остапенко не только стрелял, но и умело маневрировал (что в начале Великой Отечественной в Красной Армии встречалось редко), поэтому потерь от ответного огня было немного.
Наконец, когда целый батальон красноармейцев, целый день двигаясь по глубокому снегу, зашел противнику в тыл, немцы почувствовали опасность окружения и стали отходить по единственной оставшейся им дороге на Тулу.
Ворвавшись в оставленное село, советские солдаты увидели на центральной площади виселицу, где качалось 15 трупов. Оказалось, что еще в ноябре местная комендатура распорядилась повесить жителей, которым сделали предложение пойти на работу в новые немецкие учреждения, а они отказались.
"Взято два танка, пять бронемашин, 30 мотоциклов, четыре орудия 105 мм, автомашины, оружие, боеприпасы, – писал Филипп Голиков. – 5-километровый участок дороги между селами Гремячее и Ятское был забит брошенным военным имуществом, машинами, повозками и мотоциклами противника..."
11 декабря кавалеристы генерала Белова, пройдя через Венев, освободили город Сталиногорск (ныне Новомосковск). 11 декабря были освобождены рязанский райцентр Данков и город Ефремов в Тульской области. Отныне на территории Рязанской области частей вермахта больше никогда не было.
Неофициальная часть истории (факты, похожие на вымысел)
Некоторые исследователи утверждают, что немцы в декабре 1941 года якобы просто не видели Рязанских вокзалов и прочих важных стратегических объектов и поэтому не бомбили их. На самом деле немцы все прекрасно видели, докладывали о важных Рязанских стратегических объектах, отслеживали передвижение эшелонов и пытались угадывать характер грузов, что подтверждают разведсводки немецкой авиации (из трофейного фонда ЦАМО). Почему не бомбили – можно только догадываться. Совсем не давно появилось любопытное объяснение этому историческому факту...
Согласно такому авторитетному источнику, как телевизионная документальная передача «Искатели» (выпуск 2004 года «Рязанский Стоунхендж» и выпуск 2012 года «Рязанский интерес Третьего рейха») выяснилось, что в декабре 1941 года, когда на огромной территории от Ленинграда до Крыма идут ожесточённые бои и решается судьба Москвы (немцы стоят в 30-ти километрах от Кремля), командующий армией Центр фельдмаршал Фёдор фон Бок (имеющий, кстати, русские корни) получает очень странную директиву Гитлера. Фюрер категорически запрещает ему любые обстрелы и авиа-бомбардировки в пятимильной зоне вдоль Оки, начиная от Рязани и по направлению к Мурому. Мало того, от фон Бока эта директива требует обеспечить надёжное прикрытие специальной поисково-археологической группе, которая будет заброшена в леса Рязанской области (германские командующие к тому времени уже привыкли без обсуждений принимать столь странные для военных действий распоряжения). Группа направлена организацией «Аненербе», цель поисков не разглашается. Однако и так общеизвестно, что все усилия «Аненербе», в переводе - «Наследие Предков», были направлены на поиски неких артефактов или мифов и легенд, способных дать Третьему Рейху новое оружие, которое помогло бы выиграть во Второй Мировой войне.
Где сегодня эта «Рязанская директива» Гитлера, и сохранилась ли она вообще, сказать сложно. Есть сведенья, что она находится в личном архиве фон Бока. Хотя некоторые историки утверждают, что там хранится только подделка. Действительно нигде, ни в переписке фельдмаршала с разными лицами, ни в его личных дневниках нет упоминаний о спецотряде «Аненербе». Но документ, согласно различным источникам определённо был. Возникает закономерный вопрос, зачем он нужен был самому фон Боку и для чего он его бережно хранил? Имеется предположение, что это безумное решение и, возможно, другие ему подобные командующий группы «Армии Центр» планировал предъявить для оправдания своего будущего провала под Москвой, в качестве доказательств просчётов Верховного командования. Сохранилась стенограмма телефонного разговора фон Бока и главного адъютанта Гитлера полковника Шмундта, состоявшегося поздно вечером 16 декабря 1941 года. Фельдмаршал убеждал собеседника: «Фюрер должен решить или группа Армии остаётся на этих рубежах, что влечёт за собой опасность её разгрома, или она должна отойти, что так же таит в себе опасность. Так как в связи с нехваткой горючего и обледенением дорог я лишусь моторизованных соединений и артиллерии на конной тяге».
При таком положении дел оттягивать силы на прикрытие «Рязанской миссии» «Аненербе», учитывая, что Красная Амия уже к тому моменту прорвала фронт, было бы смерти подобно. Это хорошо понимал фон Бок. Понимал ли это Гитлер, вполне вероятно. Но вряд ли это его остановило бы.
Известно, что на территории СССР Гитлера и руководителей «Аненербе» интересовали всего три места. Это Крым (где искали и так не нашли королевство готов), Кольский полуостров (где пытались отыскать следы пропавшей Гипербореи/Атлантиды) и Рязанская область. Конечно ко всему этому можно отнестись с известной долей иронии, однако трудно опровергнуть тот факт, что «Аненербе» имело отлаженную систему сбора информации, и не стало бы забрасывать своих людей в советский тыл в непригодное для археологических раскопок время, без серьёзных на то причин, не дожидаясь пока регулярные части Вермахта возьмут Москву.
Следует отметить, в статье Зои Мозалевой «Могут ли Рязанцы считать себя потомками былинного богатыря» из Газеты «АиФ Рязань» №39 от 26 сентября 2012 года краевед Шиловского района и директор этнокультурного центра «Заряна» Андрей Гаврилов утверждает, что впервые немцы проявили интерес к территории Рязанской области и даже провели раскопки в Шиловском районе ещё в конце ХIХ века. Они исследовали Тереховское городище. Любопытно, что работали немецкие исследователи по некой рукописной книге, в которой было описано несколько мест. По слухам, нашли они много вещей, но самое интересное, что был найден некий железный стержень в человеческий рост, который раздваивался на конце, и на каждой половинке был привязан колокольчик. Что это такое – неизвестно, но находку немцы увезли с собой.
Более того, имеются сведения, что немецкому специальному отряду всё-таки удалось проникнуть за Оку. Так, например, существует интересная легенда, услышанная в 90-х годах от старожилов д. Фатьяновка, о том, что немецких солдат действительно видели на территории Спасского района (раньше я думал, откуда им здесь взяться?), а один старик, ныне уже умерший, рассказывал о неком немецком схроне (представлявшим собой землянку с оружием, одеждой, едой и прочим немецким инвентарём), находившимся где-то недалеко от д. Фатьяновки, напротив городища Старая Рязань, в лесном массиве с озёрами (в народе это место называется «Ласки»). Как жаль, что этим рассказам не было уделено должного внимания и большого значения, сейчас бы эта ценная информация очень пригодилась! Может быть, всё гораздо проще, и так называемый «Немецкий схрон» - это созданный советской властью один из тайных складов оружия и боеприпасов с запасами продовольствия и теплых вещей для партизан, а «Немецкие солдаты в Спасском районе» - это одна из бандитских групп дезертиров, скрывающихся в Мещере?
Ещё вроде бы доподлинно известно, что уходя нацисты травили колодцы нескольких деревень. Якобы они до сих пор заброшены. Однако найти, хотя бы один такой колодец либо сведений о нём мне не удалось.
В пользу версии о присутствии в годы войны специального отряда Аненербе на территории Спасского района (недалеко от Старой Рязани) косвенно свидетельствует рассказ одного из жителей с. Троица о том, что примерно в 2003 году, когда ему было 14 лет, он с друзьями, взяв обыкновенные лопаты, отправился на Старую Рязань. В то время в Троицкой общеобразовательной школе действовало простое правило: чтобы получить оценку « 5 » за урок по предмету «Краеведение», нужно принести и подарить учителю истории какой-либо предмет старины. Так как больше из дома у родителей и бабушек утащить было нечего (монеты до 1961 года и прочая антикварная утварь уже были отданы ранее историку), то ребята поехали попытать счастье на Старую Рязань. Там они наугад начали копать яму на фундаменте древнего Борисоглебского собора и, спустя какое-то время, откопали череп и нацистскую каску (может это были останки одного из немецких диверсантов?). Добившись желаемого результата, школьники взяли добытые из земли находки и торжественно вручили их местному учителю истории, за что получили свои заслуженные пятёрки. Говорят, что якобы до сих пор данные экспонаты находятся у бывшего историка Троицкой школы. Однако в этой странной истории вполне может оказаться так, что найденные череп и каска между собой связи никакой не имеют, и череп - это останки одного из представителей княжеской знати, захороненных в склепе Борисоглебского собора, а немецкая каска - это утерянный трофей (сувенир), привезённый с фронта кем-нибудь из ветеранов Великой Отечественной Войны.
Однако, допустить тот факт, что немцы что-то искали на Старой Рязани и вели раскопки, очень сложно. Дело в том, что согласно статьи Андрея Петруцкого «Следы Великой Отечественной Войны на Старорязанском городище», опубликованной в газете «Вечерняя Рязань» № 11 от 25.03.2010 года (эту информацию, кстати, подтверждают жители с. Шатрище) советским командованием при наступлении немцев в Рязанском направлении в 1941 году было приняло решение, подготовить дороги для возможной переброски войск из Пензы к востоку от Рязани. Начали мостить дорогу камнем от ст. Шилово – места разгрузки войск (куда в последствии и прибыл упоминаемый выше командир 10 армии Филипп Голиков со своими бойцами). Камня не хватало. Поэтому взрывали церкви в радиусе 10-15 км от дороги и полученный щебень возили на дорогу. Первыми были взорваны церкви, находящиеся ближе к нынешней трассе Москва – Самара, как, например, огромный храм в с. Климентовский погост, расположенный в 5 км вверх по Оке от с. Старая Рязань. После чего, по тем же причинам стали взрывать и разрушать церковь Бориса и Глеба, построенную на средства помещицы Стерлиговой в начале ХХ века на месте древнего Борисоглебского собора на городище Старая Рязань. При таких обстоятельствах немцы просто на просто не могли производить свои раскопки на городище Старая Рязань и её окрестностях. И вообще трудно себе представить, как можно делать археологические раскопы зимой, когда кругом сугробы снега и температура -30 по Цельсию (а именно такая погода стояла в то время в декабре), да и ещё остаться при этом незамеченными.
По другой информации немцы могли что-то искать на территории раскинутых цепочкой окских курганах, расположенных вдоль Оки по направлению от Рязани в сторону Мурома. Там по рассказам местных жителей якобы тоже видели немецких диверсантов, которые даже успели раскопать один окский курган. Однако никаких фактов, подтверждающих эти истории, к сожалению, найти не удалось (Единственный курган из той окской «цепочки» курганов, что тянется вдоль Оки до самого Мурома, был разрыт и исследован советскими археологами уже в послевоенные годы. Ни о каких ранее сделанных немцами раскопах упоминаний нет).
6 декабря 1941 года фон Бок записал в своём дневнике: «Температура упала до -38, нам приходится в спешке бросать наши танки, на таком морозе они просто не заводятся. Потери среди офицерского состава, из-за обморожений шокирует. Между собой офицеры называют эту напасть «русская болезнь». Вряд ли немецкие диверсанты ухитрились не стать её жертвой и смогли выйти из советского тыла живыми. Однако в интернете, некоторые пользователи говорят, что выбраться за линию фронта смогли только двое из немецкой диверсионной группы, с обмороженными и пустыми руками (Откуда у людей такие сведения, неизвестно! Поэтому я склонен не верить подобным источникам, всё это больше похоже на вымысел). Тем не менее, общепринятым считается мнение, что спецгруппа «Аненербе», заброшенная в тыл противника, пропала где-то в Рязанских лесах.
Так что же нацисты могли искать в лесах Рязанского края? Из всех теорий, которых великое множество, имеются две наиболее правдоподобных.
Теория «О поиске меча Ория»
Известно, что таинственная организация «Аненербе», по всему миру занималась поиском арийских артефактов и любых сведений, касающихся предков немцев - древних готов и ариев.
У меча Ория было много имен: наиболее популярное названия Агриков меч и меч-кладенец. Он упоминается в исторических писаниях времен Древнего Египта, в европейских средневековых трактатах, в болгарских и русских сказаниях. Сказания об этом легендарном мече существуют тысячелетия. Согласно легендам он обладал такой силой, что даже не применяя его можно обратить в бегство целую армию. И по легендам этот меч может находиться где-то на территории Рязанской области. Якобы, благодаря ему народ, населяющий Рязанский край, всегда был непобедимым.
Так что же за артефакт такой Меч Ория?
Согласно информации из интернет-энциклопедии «Википедия» Орий (Арий) - отец-прародитель славяно-арийских родов.
Согласно легендам, изложенным Олегом Баклановым в газете «Родной город», более трех тысячелетий назад могучий и непобедимый богатырь Орий завещал свой меч народу, населяющему Мещеру. Он якобы явился со стороны созвездия Ориона и вручил свой меч рязанским ратникам. По легенде, этот молниеподобный клинок был в длину около полутора метров и весил более десяти килограммов. Он был выкован из метеоритного железа. Бравший меч в руку становился царствующим и непобедимым на земле. Клинок был упрятан от дурного глаза и захоронен на века среди болот и холмов. И все холмы и болота эти были сделаны руками одного племени.
Согласно Википедии «меч-кладенец», имеющий корень «клад…» — обычно связывают со словом «класть», то есть с идеей чего-то спрятанного, добытого из клада или погребения. Но словарь Свода Русского фольклора издания РАН указывает на происхождение от слова «укладный», что попросту означает «стальной» — возможно, в какие-то времена производство стальных мечей было связано с технологией изготовки, при которой железо закапывалось в землю — через несколько лет низкокачественные куски съедала ржавчина, и оставался металл пригодный для изготовления оружия.
Не очень-то верится, что группа специалистов «Аненербе» руководствовалась русскими сказками и собиралась искать меч-кладенец под Рязанью. Но исследователи телевизионной документальный передачи «Искатели» (Рязанский интерес Третьего рейха) обратили внимание на один факт. Вывозя из советских библиотек ценные книги и материалы в Германию, немецкие эксперты составляли на них подробные аннотации. В одной из таких аннотаций на Муромскую летопись появилась заметка: «Вниманию рейх-министра Розенберга лично!». Судя по аннотации летопись, рассказывала о правлении в Муроме князя Давида Юрьевича - прототипа Петра, из повести о святых Петре и Февронии, где князь убивает змея, совращающего жену его брата Павла, с помощью меча-кладенца, который принадлежал Агрику — легендарному сыну и преемнику иудейского царя Ирода. Меч он находит спрятанным в монастыре. В последствии князь забирает меч с собой во время поездки на Рязанские земли, а возвращается уже без него.
Вполне возможно, что в былинном мече Розенберг и углядел библейский артефакт, или магическое сверхоружие древних людей. Это вполне могло стать причиной отправки экспедиции под Рязань.
И самое поразительное, совсем недавно археологи действительно установили связь древних рязанских племён с предками немцев – готами. Захоронение нашли у северного притоки Оки речки Проня, недалеко от Старой Рязани. Они принадлежали цивилизации, жившей здесь полторы тысячи лет назад, в V веке, то есть задолго до славян. По найденным железным и керамическим изделиям археологи сделали вывод, что обитавшие здесь племена были развиты лучше, чем окружавшие соседи. Условно эти племена историки называют рязано-окские. Их относят к волжско-финской группе финно-угорских народов. Предполагают, что они пришли с востока, и поселились здесь ещё до начала нашей эры. Следы их культуры говорят именно о связи с готами. Явное сходство прослеживается во всём: в оружии, деталях одежды, украшениях, предметах быта, воинских доспехах. Вожди окских племён носили такие же короны, что и ранние готские короли.
Такое же захоронение археологи обнаружили при раскопках рязано-окского могильника у села Борок Шиловского района в 2010 году.
Теория «О поиске Арты — столицы Артании»
Согласно телевизионной документальный передачи «Искатели» (Рязанский Стоунхендж) по одной из гипотез, на территории Рязанской области где-то могла располагаться древняя Арта - столица могучего государства Артании.
Арабские географы IX-X веков Аль Балхи и Абу Исхак, утверждали, что в их времена русских земель было три. Это Куябия, Славия и Артания. Общепризнано, что Куябия - это Киев, Славия - это Новгород, а вот где была Артания? Вот уже более века историки ломают копья вокруг вопроса о существовании этого полумифического государства и месте его нахождения. Артанию отождествляют с Сибирью, Черниговом, Тмутараканью и наконец с Рязанью. Исследователь Абу Исхак оставил очень яркие описание артанцев. По его словам это были искусные кузнецы. Купленные у них артанские железные доспехи спасли путешественнику жизнь. Их не могли пробить даже знаменитые арабские клинки. Согласно этим документам, Артания изобилует медом, хлебом и дичью. А ещё говорили, что Артания продавала булатные сулеймановы клинки, которые сгибали пополам, но они потом распрямлялись. В Европе того времени никакого булата ещё не знали. А это уже интересно. Что если меч Ория (меч-кладенец) был булатным? То есть, изготовленный артанцами? Тогда его легендарные качества, описанные в русских былинах вполне объяснимы. Самих артанцев арабские путешественники описывают как: «…высоких людей, со светлыми волосами и синими глазами (полное сходство с древними Арийцами). В их страну невозможно проникнуть, так как они убивают всякого иноземца ступившего на их землю...». Что же касается географии, то столица Артании - Арта, согласно арабским источникам, располагалась на берегу широкой реки. Климат сырой, кругом непролазная чащоба. Историки-последователи «окской гипотезы» местонахождения Арты как один из основных аргументов в защиту своей версии приводят древнюю мещерскую легенду о трех царях-волхвах по имени Ермус, Кадм и Шумуш, воевавших с грозным племенем «белоголовых артов», живших по соседству, в городе на Оке. В истории рязано-окском поселении больше загадок, чем ответов. Однажды эти поселения просто исчезли. Ушли ли «артанцы» с этих мест, или с ними что-то случилось – неизвестно.
Кстати, совсем недавно, весной 2014 года, в Шиловском районе был найден меч на берегу реки Тырница. Длина найденного древнего клинка – 70 см (без рукояти), ширина – 5-6 см. Согласно результатам исследования, меч изготовлен из дамасской стали по технологии строчечного дамасска. Это позволяет отнести время его изготовления ко II или III веку нашей эры. Сегодня найденный дамасский меч занял достойное место в экспозиции Шиловского краеведческого музея и доступен взору посетителей.
В принципе, летописи арабов о «белоголовых артах», могли подвигнуть немцев искать на Оке поселение чистых арийцев. Правда это или нет, возможно мы узнаем лишь тогда, когда верхушки архивов Третьего Рейха будут полностью рассекречены. Так как практически все документы «Аненербе» находились в западной части Германии (в зоне оккупации США и являются американскими трофеями), то по законам США они будут опубликованы, к сожалению, только через 99 лет после их получения, то есть, не ранее 2044 года.
Источники:
1) Книга Ф.И. Голикова "10-я армия в московской битве // Провал гитлеровского наступления на Москву. 25 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 1941-1966." — М.: Наука, 1966 год;
2) Книга Ф.И. Голикова "В Московской битве (Записки командарма)" — М.: Наука, 1967 год;
3) Книга Ю.В. Бучнева «Сказание о земле Михайловской» - Р.: Изд-во Ряз. обл. тип, 2008 год;
4) Статьи Владимира Фролова «70 лет назад: немцы под Рязанью» от 04.12.2011 года и «70 лет назад: наступление под Рязанью» от 05.12.2011 года, опубликованные в разделе «Блогосфера» на сайте информационного агентства «МедиаРязань»;
5) Телевизионная документальная передача «Искатели» (выпуск «Рязанский Стоунхендж» 2004 года и выпуск «Рязанский интерес Третьего рейха» 2012 года);
6) Статья Зои Мозалевой «Могут ли Рязанцы считать себя потомками былинного богатыря» из Газеты «АиФ Рязань» №39 от 26 сентября 2012 года;
7) Статья Андрея Петруцкого «Следы Великой Отечественной Войны на Старорязанском городище», опубликованной в газете «Вечерняя Рязань» № 11 от 25.03.2010 года;
8) Статья Олега Бакланова в газете «Родной город» о легендах Рязанской области;
9) Интернет-Энциклопедия «Википедия»;
10) Статья "Культура рязано-окских могильников. Дославянское прото-государство на Оке" от 8 декабря 2010 года – http://merjamaa.ru/news/kultura_rjazano_okskikh_mogilnikov_rjazano_okskoe_doslavjanskoe_gosudarstvo/...;
11) Статья Екатерины Малашиной «В Рязанской области нашли уникальный меч времен Римской империи» на сайте «Родной город» - http://proryazan.com/2014/08/07/45386;
12) Народные рассказы, предания и воспоминания, услышанные мной в ходе личных устных бесед с местными жителями Спасского и Шиловского районов.